Разбор книги Стивена Левитта и Стивена Дабнера
Фрикономика
Книга «Фрикономика» — это нестандартный взгляд на экономику и человеческое поведение.
Экономист Стивен Левитт и журналист Стивен Дабнер исследуют неожиданные связи между, казалось бы, несвязанными явлениями — от преступности и школьных оценок до имён детей и наркоторговли.
Книга учит смотреть на мир через призму стимулов и данных, показывая, что за любыми поступками скрываются логические, пусть и неочевидные, причины.
Интересный факт о книге
Интересный факт: идея книги появилась после интервью, в котором Дабнер писал статью о Левитте как об «экономисте-хулигане»; статья стала настолько популярной, что они решили объединить силы.
После выхода в 2005 году «Фрикономика» мгновенно стала мировым бестселлером, породила подкасты, продолжения и целое направление — «поп-экономику», где сложные теории объясняются просто и с юмором.
Экономист Стивен Левитт и журналист Стивен Дабнер исследуют неожиданные связи между, казалось бы, несвязанными явлениями — от преступности и школьных оценок до имён детей и наркоторговли.
Книга учит смотреть на мир через призму стимулов и данных, показывая, что за любыми поступками скрываются логические, пусть и неочевидные, причины.
Интересный факт о книге
Интересный факт: идея книги появилась после интервью, в котором Дабнер писал статью о Левитте как об «экономисте-хулигане»; статья стала настолько популярной, что они решили объединить силы.
После выхода в 2005 году «Фрикономика» мгновенно стала мировым бестселлером, породила подкасты, продолжения и целое направление — «поп-экономику», где сложные теории объясняются просто и с юмором.
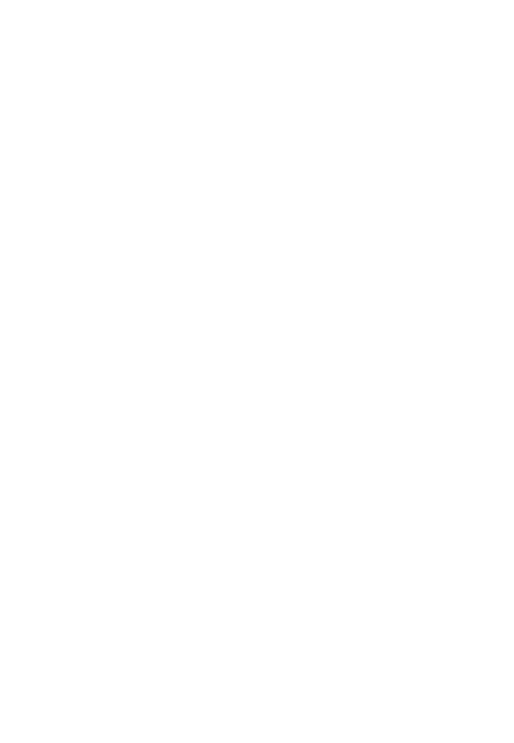
Введение: Скрытая сторона всего на свете
Мир устроен сложнее, чем кажется. Почти за каждым событием, решением или привычкой скрываются причины, которые не лежат на поверхности. Если научиться их видеть, можно понять, почему люди ведут себя именно так, а не иначе, и даже предсказать, что произойдёт дальше.
Для этого достаточно изменить способ мышления: перестать смотреть на очевидное и начать задавать неудобные вопросы.
Любое человеческое поведение можно объяснить через стимулы.
Люди действуют не просто потому, что «так правильно» или «так принято», а потому что это даёт им выгоду, избавляет от наказания или повышает комфорт. Вся экономика строится на этих стимулах – финансовых, моральных и социальных.
Стоит поменять стимул, и поведение людей меняется моментально. Иногда даже небольшое изменение правил способно полностью перевернуть систему.
Например, когда в детских садах Израиля ввели штраф за опоздание родителей, ожидалось, что это снизит количество опозданий. Но всё произошло наоборот – их стало больше. До штрафа родители чувствовали моральную вину перед воспитателями, а после штрафа она исчезла.
Опоздание стало просто платной услугой, и люди с лёгкостью «покупали» себе дополнительные десять минут. Этот случай показывает, что стимулы работают не всегда так, как мы предполагаем, и что нужно учитывать не только деньги, но и моральные последствия.
Чтобы понимать мир точнее, нужно избавиться от веры в общепринятые мнения. «Общепринятое» часто служит удобству, а не истине. Когда большинство людей повторяет что-то, не проверяя, это становится своего рода коллективной легендой.
Например, долгое время считалось, что рост преступности связан исключительно с бедностью и безработицей. Эта версия казалась логичной, пока статистика не показала, что преступность падала даже в периоды экономических кризисов. Значит, связь была мнимой, а настоящая причина находилась где-то в другом месте.
Чтобы докопаться до реальных причин, важно уметь задавать правильные вопросы и работать с цифрами, а не с предположениями. Экономика в этом смысле – не просто про деньги, а про измерения. Любое явление можно рассмотреть как систему стимулов, последствий и вероятностей. Когда вопрос поставлен точно, даже самые неожиданные факты складываются в логичную картину.
Например, почему в 1990-х резко снизился уровень преступности в США? Долгое время все объясняли это ростом числа полицейских и новыми методами патрулирования. Но статистический анализ показал другое: преступность начала снижаться именно там, где двадцать лет назад были легализованы аборты.
Это открытие не имеет моральной окраски – это просто наблюдение за реальностью. Если у женщин из групп риска появляется возможность не рожать нежеланных детей, то через двадцать лет потенциальных преступников становится меньше. Так проявляется «скрытая сторона» причинно-следственных связей, о которых никто не задумывается.
Важно понимать, что эксперты часто искажают информацию в собственных интересах. Когда у одной стороны есть знание, которого нет у другой, возникает информационное неравенство.
Врач может назначить ненужное лечение, риелтор – посоветовать продать квартиру дешевле ради быстрой комиссии, аналитик – приукрасить данные ради репутации. Чтобы не попасться в такую ловушку, нужно научиться смотреть на факты, а не на статус говорящего.
Главное правило, которому стоит следовать: не доверяйте очевидному. Проверяйте данные, ищите скрытые стимулы и задавайте вопросы, которые обычно не задают.
ъ
Почему учителя жульничают на экзаменах? Почему наркодилеры живут с мамами? Почему богатые белые выбирают редкие имена для детей, а бедные чёрные – вычурные? На первый взгляд эти вопросы кажутся странными, но именно они помогают увидеть, как экономика пронизывает каждый аспект человеческой жизни.
Цель книги – научить мыслить как экономист-хулиган: разбирать жизнь на причинно-следственные связи, не бояться парадоксов и смотреть туда, куда другие не смотрят.
Когда начинаешь анализировать стимулы, проверять данные и отбрасывать клише, оказывается, что мир становится понятнее и логичнее. И тогда видишь, что экономика – это не про деньги, а про людей и их скрытые мотивы.
Для этого достаточно изменить способ мышления: перестать смотреть на очевидное и начать задавать неудобные вопросы.
Любое человеческое поведение можно объяснить через стимулы.
Люди действуют не просто потому, что «так правильно» или «так принято», а потому что это даёт им выгоду, избавляет от наказания или повышает комфорт. Вся экономика строится на этих стимулах – финансовых, моральных и социальных.
Стоит поменять стимул, и поведение людей меняется моментально. Иногда даже небольшое изменение правил способно полностью перевернуть систему.
Например, когда в детских садах Израиля ввели штраф за опоздание родителей, ожидалось, что это снизит количество опозданий. Но всё произошло наоборот – их стало больше. До штрафа родители чувствовали моральную вину перед воспитателями, а после штрафа она исчезла.
Опоздание стало просто платной услугой, и люди с лёгкостью «покупали» себе дополнительные десять минут. Этот случай показывает, что стимулы работают не всегда так, как мы предполагаем, и что нужно учитывать не только деньги, но и моральные последствия.
Чтобы понимать мир точнее, нужно избавиться от веры в общепринятые мнения. «Общепринятое» часто служит удобству, а не истине. Когда большинство людей повторяет что-то, не проверяя, это становится своего рода коллективной легендой.
Например, долгое время считалось, что рост преступности связан исключительно с бедностью и безработицей. Эта версия казалась логичной, пока статистика не показала, что преступность падала даже в периоды экономических кризисов. Значит, связь была мнимой, а настоящая причина находилась где-то в другом месте.
Чтобы докопаться до реальных причин, важно уметь задавать правильные вопросы и работать с цифрами, а не с предположениями. Экономика в этом смысле – не просто про деньги, а про измерения. Любое явление можно рассмотреть как систему стимулов, последствий и вероятностей. Когда вопрос поставлен точно, даже самые неожиданные факты складываются в логичную картину.
Например, почему в 1990-х резко снизился уровень преступности в США? Долгое время все объясняли это ростом числа полицейских и новыми методами патрулирования. Но статистический анализ показал другое: преступность начала снижаться именно там, где двадцать лет назад были легализованы аборты.
Это открытие не имеет моральной окраски – это просто наблюдение за реальностью. Если у женщин из групп риска появляется возможность не рожать нежеланных детей, то через двадцать лет потенциальных преступников становится меньше. Так проявляется «скрытая сторона» причинно-следственных связей, о которых никто не задумывается.
Важно понимать, что эксперты часто искажают информацию в собственных интересах. Когда у одной стороны есть знание, которого нет у другой, возникает информационное неравенство.
Врач может назначить ненужное лечение, риелтор – посоветовать продать квартиру дешевле ради быстрой комиссии, аналитик – приукрасить данные ради репутации. Чтобы не попасться в такую ловушку, нужно научиться смотреть на факты, а не на статус говорящего.
Главное правило, которому стоит следовать: не доверяйте очевидному. Проверяйте данные, ищите скрытые стимулы и задавайте вопросы, которые обычно не задают.
ъ
Почему учителя жульничают на экзаменах? Почему наркодилеры живут с мамами? Почему богатые белые выбирают редкие имена для детей, а бедные чёрные – вычурные? На первый взгляд эти вопросы кажутся странными, но именно они помогают увидеть, как экономика пронизывает каждый аспект человеческой жизни.
Цель книги – научить мыслить как экономист-хулиган: разбирать жизнь на причинно-следственные связи, не бояться парадоксов и смотреть туда, куда другие не смотрят.
Когда начинаешь анализировать стимулы, проверять данные и отбрасывать клише, оказывается, что мир становится понятнее и логичнее. И тогда видишь, что экономика – это не про деньги, а про людей и их скрытые мотивы.
Глава 1. Что общего у школьных учителей и сумоистов?
В основе лежит идея, что стимулы (вознаграждения и наказания) управляют поведением людей, часто сильнее, чем мы думаем. Стимулы бывают трёх видов: экономические (деньги, штрафы), социальные (общественное признание или осуждение) и моральные (чувство долга, стыда).
Стимул, введённый в одной детсадовской программе в виде штрафа за опоздание, привёл не к тому, что родители начали приходить вовремя, а к тому, что опозданий стало больше.
Причина: введение штрафа сняло моральный стимул («я должен не опоздать») и заменило его экономическим («я плачу штраф») — и в результате поведение ухудшилось. Например, исследование в детском саду показало рост опозданий после введения штрафа.
Учителя в системе государственных школ Чикаго сталкивались с «высокими ставками»: их будущие зарплаты и положение зависели от результатов учащихся. В ряде классов обнаруживался резкий скачок результатов, затем падение — и с помощью анализа ответов и шаблонов выявлялись случаи мошенничества (например, стирание неверных ответов и подстановка правильных).
В мире сумо японского турнира: борцы с рекордом 7-7 (семь побед, семь поражений) в последнем туре побеждали борцов с 8-6 примерно в 80 % случаев, тогда как при повторной встрече та же статистика падала до ~40 %. Это наводит на мысль о договорённостях или нечестных сделках.
Отсюда вывод: чтобы понять, как ведут себя люди (учителя, спортсмены, родители), ищите стимулы — кто что получает и что теряет. Сила морального и социального стимулов недооценивается, и их нарушение может привести к неожиданным результатам.
Глава 2. Чем Ку-Клукс-Клан похож на агентство недвижимости?
Главная мысль — информационное неравенство (асимметрия информации) даёт тем, кто знает больше, значительное преимущество.
Организация Ку‑Клукс‑Клан базировала своё влияние не только на страхе и насилии, но на секрете: пароли, ритуалы, тайные церемонии создавали ощущение элитарности и устрашения.
Когда исследователь Stetson Kennedy разоблачил эти секреты, распространив их через популярное радиошоу «Adventures of Superman», сила Клана пошла на убыль.
Агенты по недвижимости — на первый взгляд мирное ремесло, но схожий механизм: они знают рынок и ботки гораздо больше, чем обычные продавцы или покупатели, и могут использовать свои знания в собственных интересах.
Так выяснилось, что многие агенты продавали собственные дома дороже и дольше, чем дома клиентов — именно потому, что их стимул (большая комиссия) был слабее по сравнению с клиентским стимулом (быстро продать за максимум).
Например, один агент убедил покупателя повысить ставку, мотивируя тем, что «рынок взлетит», и в итоге продавец потерял значительную сумму, а агент заработал лишь небольшую комиссию — но потащил сделку быстрее.
Вдали от недвижимости и ККК — в сетевых сервисах знакомств люди заявляли, что раса не важна, но большинство писем они всё равно писали представителям своей расы — что показывает: люди контролируют, что говорят, но не обязательно контролируют, что делают.
Интернет и открытая информация постепенно разрушают монополии знания: покупатели могут сами искать цены, читать обзоры, сравнивать — что снижает информационное преимущество экспертов.
Вывод: если вы — клиент или участник рынка, стремитесь уменьшить своё неведение и повысить свою осведомлённость; если вы — эксперт — будьте внимательны к тому, как ваши стимулы могут расходиться с интересами тех, кому вы служите.
Глава 3. Почему наркодилеры живут с мамами?
Здесь ставится под сомнение общепринятое мнение («общественное мудрое мнение») — что все уличные дилеры наркоты богаты.
Исследование социолога Sudhir Venkatesh, который в 1989 году проник в структуру банды Black Gangster Disciples в Чикаго, показало другое: структура банды напоминает корпорацию: верхушке достаются львиная доля прибыли, низовые «пехотинцы» — минимальные доходы, высокий риск.
Например, лидер отделения «J.T.» зарабатывал ~$100 000 в год, его «офицеры» около $700 в месяц, а уличные продавцы — менее $4 в час. Шанс быть убитым за четыре года у «пешки» — 1 из 4.
Суть: массовый приток людей на низовые уровни (уровень «войти в игру») означает, что доход низок, риск высок, продвижение мало вероятно. Тогда почему они остаются? Потому что стимул — шанс оказаться наверху — действует. Но когда люди понимают, что продвижения не будет, они уходят.
Также ключевой момент: появление крэка — дешёвого варианта кокаина — сделало бизнес массовым, повысило конкуренцию, расширило рынок, но одновременно усилило социальные проблемы: массивная преступность, тюремная нагрузка, разрушение сообществ.
Обсуждается, что рост преступности в США 1990-х был связан не столько с усилением полиции, сколько косвенно с более ранними социальными изменениями (в том числе легализацией абортов) — но это ведёт к следующей главе.
Вывод: важно не принимать на веру, что «все дилеры богаты», или что «наркоторговля — путь к лёгким деньгам». Нужно смотреть на внутреннюю структуру, стимулы и распределение риска и вознаграждения.
Глава 4. Куда делись все преступники?
В 1990-х Америка столкнулась с загадочным явлением - уровень преступности, который десятилетиями рос, внезапно резко упал. Газеты и политики наперебой объясняли это «умными» реформами, новыми полицейскими методами и экономическим подъёмом. Но за эффектными заголовками скрывалась куда более неожиданная причина.
Большинство популярных объяснений не выдержали проверки фактами. Экономический рост почти не влиял на количество убийств и грабежей, ведь преступления совершаются не ради зарплаты, а из-за импульсов, среды и безысходности. Увеличение числа полицейских дало лишь около 10 % снижения.
Рост числа заключённых тоже сыграл роль, но не более трети общей разницы. Даже знаменитое «патрулирование по горячим точкам», с которым ассоциируется имя Уильяма Брэттона в Нью-Йорке, оказалось мифом - преступность там падала и до его реформ, и с такой же скоростью в других городах. Законы об оружии, вроде «Акта Брэди», тоже оказались бесполезными, ведь чёрный рынок легко обходил любые запреты.
Смертная казнь, которую сторонники считали мощным сдерживающим фактором, статистически не оказывала заметного влияния. Её применяли слишком редко, а значит, страх перед ней просто не существовал. Даже демографический фактор - старение населения - не объяснял столь стремительного падения. Получалось, что все очевидные причины провалились.
Решение загадки оказалось там, где его меньше всего ожидали. В 1973 году Верховный суд США легализовал аборты по делу «Роу против Уэйда». Прошло двадцать лет, и к началу 1990-х в возрасте 18-25 лет, то есть именно в том, где совершается большая часть преступлений, оказалось меньше тех, кто, по статистике, чаще всего шёл на преступления: детей бедных, одиноких, совсем юных матерей.
Легализация абортов не уничтожила преступность напрямую - она просто изменила состав поколения, которое выросло.
Например, штаты, где аборты разрешили раньше (Нью-Йорк, Калифорния), первыми показали падение преступности. А там, где законы вводились позже, спад начинался позже и проходил с такой же скоростью. Цифры совпали слишком точно, чтобы это могло быть совпадением.
Этот вывод вызвал бурю негодования, ведь он затрагивал моральные и этические границы. Но в нём не было призыва, лишь сухая статистика. Порой самые драматичные изменения происходят не из-за новых законов и реформ, а из-за незаметных сдвигов в человеческой жизни, сделанных десятилетия назад.
Главный урок прост - не доверять очевидным ответам. Мир меняется не потому, что политики приняли правильное решение, а потому что тысячи людей когда-то изменили свой выбор. И часто именно эти тихие, незаметные решения создают новую реальность.
Глава 5. Что делает родителя идеальным?
Существует почти религиозная вера в то, что судьба ребёнка зависит от того, сколько любви, времени и усилий вкладывают в него родители.
Люди читают книги о воспитании, устраивают детей на кружки, запрещают телевизор и с гордостью возят их по музеям. Но когда тысячи детских тестов и опросов сопоставили с социальными данными, выяснилось: всё это почти не влияет на успех ребёнка.
На оценки детей и их будущие достижения слабо влияют повседневные родительские привычки. Ни чтение на ночь, ни строгое ограничение экранного времени, ни походы в театры не показывают ощутимой разницы в результатах. То, что родители делают, не так важно, как то, кто они сами.
Решающими оказываются факторы, которые не зависят от ежедневных усилий. Уровень образования родителей, их доход, возраст матери при рождении первого ребёнка, число книг дома, язык, на котором разговаривают в семье, - всё это влияет гораздо сильнее. Не потому что эти признаки напрямую обучают ребёнка, а потому что они создают среду, в которой формируется его отношение к миру.
Например, если мать родила ребёнка после 30 лет, значит, она, скорее всего, успела получить образование и накопить жизненный опыт. Такой ребёнок растёт в более устойчивой атмосфере.
Если в доме много книг, это не значит, что их читают, но это сигнал о культурных привычках семьи. А если родители владеют английским, ребёнок получает доступ к лучшим источникам знаний и коммуникации.
Интересно, что приёмные дети в среднем показывают более низкие результаты в тестах, чем их ровесники, хотя воспитываются в любящих семьях. Причина в генетике: биологические родители таких детей чаще имели низкий уровень интеллекта, и этот фактор передаётся. Это не умаляет роли воспитания, но показывает, что среда и наследственность взаимодействуют сложнее, чем кажется.
Когда исследователи сравнили школьные результаты белых и чёрных детей, оказалось, что до школы разрыв почти исчезает, если учесть социально-экономическое положение семьи. Но как только дети попадают в школы, где качество образования сильно различается, разница возвращается. То, что кажется расовым различием, на деле оказывается различием возможностей.
Вывод ясен: быть «идеальным родителем» в действиях бесполезно. Важно не то, что родители делают каждый день, а то, кем они являются и какую атмосферу создают. Ребёнок впитывает не наставления, а сам образ жизни родителей.
Глава 6. Идеальное родительство, часть II: Будет ли Рошанда пахнуть так же сладко под другим именем?
Имя ребёнка кажется символом судьбы. Родители выбирают его с особым трепетом, уверенные, что удачное имя сделает ребёнка успешным. Но имя - не причина, а следствие. Оно отражает социальный статус семьи, но не формирует его.
В бедных афроамериканских семьях часто встречаются уникальные имена вроде Имани, Де’Шон или ЛаТиффа. Такие имена становятся способом выразить индивидуальность и гордость, особенно когда мать молода, бедна и растит ребёнка одна.
Белые обеспеченные семьи предпочитают редкие и «утончённые» имена - Клементина, Акива, Генри. Каждое имя несёт не только звук, но и культурный контекст, в котором ребёнок растёт.
Имя само по себе ничего не меняет. Дети с именами «Де’Шон» и «Джейк», выросшие в одинаковых семьях, имеют одинаковые шансы на успех. Но типичный «Де’Шон» чаще рождается в неблагополучной среде, а «Джейк» - в обеспеченной, и именно это определяет различие в их будущих возможностях. Имя становится не причиной, а сигналом того, из какого мира человек пришёл.
Популярность имён движется как мода - сверху вниз. Сначала редкое имя выбирают образованные и богатые родители, потом оно становится массовым, теряет престиж и уходит в «низшие» слои.
Так было, например, с именами Эмили и Лорен. Когда-то их давали дочерям из хороших семей, но вскоре они стали популярными повсюду и перестали быть «элитными». Тогда высшие слои выбирают новые, редкие имена, и цикл повторяется.
Родители выбирают имя не случайно - это отражение их ожиданий. Они хотят показать, кем видят своего ребёнка. Но имя не способно изменить судьбу, если за ним не стоит поддержка, образование и стабильность.
Вывод очевиден: имя - лишь знак, а не инструмент.
Оно не определяет, каким станет ребёнок, так же как одежда не определяет личность. Важно не то, как зовут, а то, что стоит за этим именем. Настоящее влияние оказывают среда, культура и возможности, которые создают родители.
В основе лежит идея, что стимулы (вознаграждения и наказания) управляют поведением людей, часто сильнее, чем мы думаем. Стимулы бывают трёх видов: экономические (деньги, штрафы), социальные (общественное признание или осуждение) и моральные (чувство долга, стыда).
Стимул, введённый в одной детсадовской программе в виде штрафа за опоздание, привёл не к тому, что родители начали приходить вовремя, а к тому, что опозданий стало больше.
Причина: введение штрафа сняло моральный стимул («я должен не опоздать») и заменило его экономическим («я плачу штраф») — и в результате поведение ухудшилось. Например, исследование в детском саду показало рост опозданий после введения штрафа.
Учителя в системе государственных школ Чикаго сталкивались с «высокими ставками»: их будущие зарплаты и положение зависели от результатов учащихся. В ряде классов обнаруживался резкий скачок результатов, затем падение — и с помощью анализа ответов и шаблонов выявлялись случаи мошенничества (например, стирание неверных ответов и подстановка правильных).
В мире сумо японского турнира: борцы с рекордом 7-7 (семь побед, семь поражений) в последнем туре побеждали борцов с 8-6 примерно в 80 % случаев, тогда как при повторной встрече та же статистика падала до ~40 %. Это наводит на мысль о договорённостях или нечестных сделках.
Отсюда вывод: чтобы понять, как ведут себя люди (учителя, спортсмены, родители), ищите стимулы — кто что получает и что теряет. Сила морального и социального стимулов недооценивается, и их нарушение может привести к неожиданным результатам.
Глава 2. Чем Ку-Клукс-Клан похож на агентство недвижимости?
Главная мысль — информационное неравенство (асимметрия информации) даёт тем, кто знает больше, значительное преимущество.
Организация Ку‑Клукс‑Клан базировала своё влияние не только на страхе и насилии, но на секрете: пароли, ритуалы, тайные церемонии создавали ощущение элитарности и устрашения.
Когда исследователь Stetson Kennedy разоблачил эти секреты, распространив их через популярное радиошоу «Adventures of Superman», сила Клана пошла на убыль.
Агенты по недвижимости — на первый взгляд мирное ремесло, но схожий механизм: они знают рынок и ботки гораздо больше, чем обычные продавцы или покупатели, и могут использовать свои знания в собственных интересах.
Так выяснилось, что многие агенты продавали собственные дома дороже и дольше, чем дома клиентов — именно потому, что их стимул (большая комиссия) был слабее по сравнению с клиентским стимулом (быстро продать за максимум).
Например, один агент убедил покупателя повысить ставку, мотивируя тем, что «рынок взлетит», и в итоге продавец потерял значительную сумму, а агент заработал лишь небольшую комиссию — но потащил сделку быстрее.
Вдали от недвижимости и ККК — в сетевых сервисах знакомств люди заявляли, что раса не важна, но большинство писем они всё равно писали представителям своей расы — что показывает: люди контролируют, что говорят, но не обязательно контролируют, что делают.
Интернет и открытая информация постепенно разрушают монополии знания: покупатели могут сами искать цены, читать обзоры, сравнивать — что снижает информационное преимущество экспертов.
Вывод: если вы — клиент или участник рынка, стремитесь уменьшить своё неведение и повысить свою осведомлённость; если вы — эксперт — будьте внимательны к тому, как ваши стимулы могут расходиться с интересами тех, кому вы служите.
Глава 3. Почему наркодилеры живут с мамами?
Здесь ставится под сомнение общепринятое мнение («общественное мудрое мнение») — что все уличные дилеры наркоты богаты.
Исследование социолога Sudhir Venkatesh, который в 1989 году проник в структуру банды Black Gangster Disciples в Чикаго, показало другое: структура банды напоминает корпорацию: верхушке достаются львиная доля прибыли, низовые «пехотинцы» — минимальные доходы, высокий риск.
Например, лидер отделения «J.T.» зарабатывал ~$100 000 в год, его «офицеры» около $700 в месяц, а уличные продавцы — менее $4 в час. Шанс быть убитым за четыре года у «пешки» — 1 из 4.
Суть: массовый приток людей на низовые уровни (уровень «войти в игру») означает, что доход низок, риск высок, продвижение мало вероятно. Тогда почему они остаются? Потому что стимул — шанс оказаться наверху — действует. Но когда люди понимают, что продвижения не будет, они уходят.
Также ключевой момент: появление крэка — дешёвого варианта кокаина — сделало бизнес массовым, повысило конкуренцию, расширило рынок, но одновременно усилило социальные проблемы: массивная преступность, тюремная нагрузка, разрушение сообществ.
Обсуждается, что рост преступности в США 1990-х был связан не столько с усилением полиции, сколько косвенно с более ранними социальными изменениями (в том числе легализацией абортов) — но это ведёт к следующей главе.
Вывод: важно не принимать на веру, что «все дилеры богаты», или что «наркоторговля — путь к лёгким деньгам». Нужно смотреть на внутреннюю структуру, стимулы и распределение риска и вознаграждения.
Глава 4. Куда делись все преступники?
В 1990-х Америка столкнулась с загадочным явлением - уровень преступности, который десятилетиями рос, внезапно резко упал. Газеты и политики наперебой объясняли это «умными» реформами, новыми полицейскими методами и экономическим подъёмом. Но за эффектными заголовками скрывалась куда более неожиданная причина.
Большинство популярных объяснений не выдержали проверки фактами. Экономический рост почти не влиял на количество убийств и грабежей, ведь преступления совершаются не ради зарплаты, а из-за импульсов, среды и безысходности. Увеличение числа полицейских дало лишь около 10 % снижения.
Рост числа заключённых тоже сыграл роль, но не более трети общей разницы. Даже знаменитое «патрулирование по горячим точкам», с которым ассоциируется имя Уильяма Брэттона в Нью-Йорке, оказалось мифом - преступность там падала и до его реформ, и с такой же скоростью в других городах. Законы об оружии, вроде «Акта Брэди», тоже оказались бесполезными, ведь чёрный рынок легко обходил любые запреты.
Смертная казнь, которую сторонники считали мощным сдерживающим фактором, статистически не оказывала заметного влияния. Её применяли слишком редко, а значит, страх перед ней просто не существовал. Даже демографический фактор - старение населения - не объяснял столь стремительного падения. Получалось, что все очевидные причины провалились.
Решение загадки оказалось там, где его меньше всего ожидали. В 1973 году Верховный суд США легализовал аборты по делу «Роу против Уэйда». Прошло двадцать лет, и к началу 1990-х в возрасте 18-25 лет, то есть именно в том, где совершается большая часть преступлений, оказалось меньше тех, кто, по статистике, чаще всего шёл на преступления: детей бедных, одиноких, совсем юных матерей.
Легализация абортов не уничтожила преступность напрямую - она просто изменила состав поколения, которое выросло.
Например, штаты, где аборты разрешили раньше (Нью-Йорк, Калифорния), первыми показали падение преступности. А там, где законы вводились позже, спад начинался позже и проходил с такой же скоростью. Цифры совпали слишком точно, чтобы это могло быть совпадением.
Этот вывод вызвал бурю негодования, ведь он затрагивал моральные и этические границы. Но в нём не было призыва, лишь сухая статистика. Порой самые драматичные изменения происходят не из-за новых законов и реформ, а из-за незаметных сдвигов в человеческой жизни, сделанных десятилетия назад.
Главный урок прост - не доверять очевидным ответам. Мир меняется не потому, что политики приняли правильное решение, а потому что тысячи людей когда-то изменили свой выбор. И часто именно эти тихие, незаметные решения создают новую реальность.
Глава 5. Что делает родителя идеальным?
Существует почти религиозная вера в то, что судьба ребёнка зависит от того, сколько любви, времени и усилий вкладывают в него родители.
Люди читают книги о воспитании, устраивают детей на кружки, запрещают телевизор и с гордостью возят их по музеям. Но когда тысячи детских тестов и опросов сопоставили с социальными данными, выяснилось: всё это почти не влияет на успех ребёнка.
На оценки детей и их будущие достижения слабо влияют повседневные родительские привычки. Ни чтение на ночь, ни строгое ограничение экранного времени, ни походы в театры не показывают ощутимой разницы в результатах. То, что родители делают, не так важно, как то, кто они сами.
Решающими оказываются факторы, которые не зависят от ежедневных усилий. Уровень образования родителей, их доход, возраст матери при рождении первого ребёнка, число книг дома, язык, на котором разговаривают в семье, - всё это влияет гораздо сильнее. Не потому что эти признаки напрямую обучают ребёнка, а потому что они создают среду, в которой формируется его отношение к миру.
Например, если мать родила ребёнка после 30 лет, значит, она, скорее всего, успела получить образование и накопить жизненный опыт. Такой ребёнок растёт в более устойчивой атмосфере.
Если в доме много книг, это не значит, что их читают, но это сигнал о культурных привычках семьи. А если родители владеют английским, ребёнок получает доступ к лучшим источникам знаний и коммуникации.
Интересно, что приёмные дети в среднем показывают более низкие результаты в тестах, чем их ровесники, хотя воспитываются в любящих семьях. Причина в генетике: биологические родители таких детей чаще имели низкий уровень интеллекта, и этот фактор передаётся. Это не умаляет роли воспитания, но показывает, что среда и наследственность взаимодействуют сложнее, чем кажется.
Когда исследователи сравнили школьные результаты белых и чёрных детей, оказалось, что до школы разрыв почти исчезает, если учесть социально-экономическое положение семьи. Но как только дети попадают в школы, где качество образования сильно различается, разница возвращается. То, что кажется расовым различием, на деле оказывается различием возможностей.
Вывод ясен: быть «идеальным родителем» в действиях бесполезно. Важно не то, что родители делают каждый день, а то, кем они являются и какую атмосферу создают. Ребёнок впитывает не наставления, а сам образ жизни родителей.
Глава 6. Идеальное родительство, часть II: Будет ли Рошанда пахнуть так же сладко под другим именем?
Имя ребёнка кажется символом судьбы. Родители выбирают его с особым трепетом, уверенные, что удачное имя сделает ребёнка успешным. Но имя - не причина, а следствие. Оно отражает социальный статус семьи, но не формирует его.
В бедных афроамериканских семьях часто встречаются уникальные имена вроде Имани, Де’Шон или ЛаТиффа. Такие имена становятся способом выразить индивидуальность и гордость, особенно когда мать молода, бедна и растит ребёнка одна.
Белые обеспеченные семьи предпочитают редкие и «утончённые» имена - Клементина, Акива, Генри. Каждое имя несёт не только звук, но и культурный контекст, в котором ребёнок растёт.
Имя само по себе ничего не меняет. Дети с именами «Де’Шон» и «Джейк», выросшие в одинаковых семьях, имеют одинаковые шансы на успех. Но типичный «Де’Шон» чаще рождается в неблагополучной среде, а «Джейк» - в обеспеченной, и именно это определяет различие в их будущих возможностях. Имя становится не причиной, а сигналом того, из какого мира человек пришёл.
Популярность имён движется как мода - сверху вниз. Сначала редкое имя выбирают образованные и богатые родители, потом оно становится массовым, теряет престиж и уходит в «низшие» слои.
Так было, например, с именами Эмили и Лорен. Когда-то их давали дочерям из хороших семей, но вскоре они стали популярными повсюду и перестали быть «элитными». Тогда высшие слои выбирают новые, редкие имена, и цикл повторяется.
Родители выбирают имя не случайно - это отражение их ожиданий. Они хотят показать, кем видят своего ребёнка. Но имя не способно изменить судьбу, если за ним не стоит поддержка, образование и стабильность.
Вывод очевиден: имя - лишь знак, а не инструмент.
Оно не определяет, каким станет ребёнок, так же как одежда не определяет личность. Важно не то, как зовут, а то, что стоит за этим именем. Настоящее влияние оказывают среда, культура и возможности, которые создают родители.
Эпилог. Два пути в Гарвард
Жизнь редко подчиняется шаблонам и правилам. Даже самые логичные модели и точные расчёты не могут предсказать, каким станет человек и куда его приведут обстоятельства.
Эпилог книги показывает это через судьбы двух людей, которые символизируют противоположные стороны человеческого опыта - и при этом сходятся в одной точке.
Первый из них - Тед Качинский, известный как «Унабомбер». Он родился в обеспеченной, образованной семье, рос среди любви и поддержки, был одарённым ребёнком и поступил в Гарвард в 16 лет. Всё в его биографии соответствовало представлениям об «идеальном старте»: умные родители, хорошие школы, блестящие способности.
Но впоследствии он стал одиночкой, отрёкся от общества и начал террористическую кампанию против технологического прогресса. Его путь превратился в трагедию, хотя стартовые условия были лучшими из возможных.
Второй герой - Роланд Фрайер, афроамериканец, который вырос в бедности и пережил насилие, отсутствие родителей и постоянную опасность. Его судьба могла бы закончиться в тюрьме или на улице, но он стал профессором Гарварда и одним из самых известных экономистов современности.
Его жизнь - противоположность истории Качинского: отсутствие поддержки, но огромная внутренняя сила, желание понять, почему мир устроен несправедливо, и как его можно изменить.
Эти две биографии показывают, что человеческая жизнь не подчиняется простым закономерностям. Ни социальное происхождение, ни интеллект, ни даже любовь родителей не гарантируют конкретного результата.
Мир слишком сложен, чтобы его можно было описать единой формулой. Но это не повод отказаться от попытки его понять - наоборот, это стимул искать закономерности там, где другие видят только хаос.
Главный смысл книги в том, чтобы научить видеть скрытые причины событий и не доверять очевидным объяснениям. Важно не слепо верить догмам, а уметь задавать неудобные вопросы и искать ответы в данных, а не в догадках. Судьбы Качинского и Фрайера напоминают, что истина часто прячется под поверхностью, и только готовность копнуть глубже помогает её увидеть.
«Фрикономика» не обещает универсальных рецептов успеха и не учит, как жить. Она предлагает другой инструмент - умение сомневаться, анализировать и думать как исследователь.
Тот, кто способен видеть мир не сквозь эмоции и стереотипы, а через факты и закономерности, получает самое мощное оружие - ясность. И именно она позволяет не просто понимать, но и менять реальность вокруг себя.
Эпилог книги показывает это через судьбы двух людей, которые символизируют противоположные стороны человеческого опыта - и при этом сходятся в одной точке.
Первый из них - Тед Качинский, известный как «Унабомбер». Он родился в обеспеченной, образованной семье, рос среди любви и поддержки, был одарённым ребёнком и поступил в Гарвард в 16 лет. Всё в его биографии соответствовало представлениям об «идеальном старте»: умные родители, хорошие школы, блестящие способности.
Но впоследствии он стал одиночкой, отрёкся от общества и начал террористическую кампанию против технологического прогресса. Его путь превратился в трагедию, хотя стартовые условия были лучшими из возможных.
Второй герой - Роланд Фрайер, афроамериканец, который вырос в бедности и пережил насилие, отсутствие родителей и постоянную опасность. Его судьба могла бы закончиться в тюрьме или на улице, но он стал профессором Гарварда и одним из самых известных экономистов современности.
Его жизнь - противоположность истории Качинского: отсутствие поддержки, но огромная внутренняя сила, желание понять, почему мир устроен несправедливо, и как его можно изменить.
Эти две биографии показывают, что человеческая жизнь не подчиняется простым закономерностям. Ни социальное происхождение, ни интеллект, ни даже любовь родителей не гарантируют конкретного результата.
Мир слишком сложен, чтобы его можно было описать единой формулой. Но это не повод отказаться от попытки его понять - наоборот, это стимул искать закономерности там, где другие видят только хаос.
Главный смысл книги в том, чтобы научить видеть скрытые причины событий и не доверять очевидным объяснениям. Важно не слепо верить догмам, а уметь задавать неудобные вопросы и искать ответы в данных, а не в догадках. Судьбы Качинского и Фрайера напоминают, что истина часто прячется под поверхностью, и только готовность копнуть глубже помогает её увидеть.
«Фрикономика» не обещает универсальных рецептов успеха и не учит, как жить. Она предлагает другой инструмент - умение сомневаться, анализировать и думать как исследователь.
Тот, кто способен видеть мир не сквозь эмоции и стереотипы, а через факты и закономерности, получает самое мощное оружие - ясность. И именно она позволяет не просто понимать, но и менять реальность вокруг себя.
Основные идеи и тезисы книги:
Стимулы (инцентивы) управляют поведением людей гораздо сильнее, чем мораль или добрые намерения.
Общепринятое мнение часто ошибочно, оно формируется для удобства и пользы, а не для истины.
События могут иметь неожиданные и скрытые причины, которые на первый взгляд кажутся не связанными с результатом.
Эксперты и власти часто используют информационное преимущество в своих интересах, скрывая или искажая данные.
Экономика - наука измерений: правильный вопрос + верные данные = неожиданные, но логичные выводы.
Легализация абортов в 1970-х стала одной из главных причин резкого падения уровня преступности в 1990-х, так как не родились дети из групп наибольшего риска.
Другие факторы снижения преступности включают увеличение тюремного населения, рост числа полицейских и спад крэкового наркотического бума, но их влияние меньше, чем у легализации абортов.
Традиционные объяснения падения преступности (экономический рост, ужесточение законов об оружии, смертная казнь, демографические изменения) не подтверждаются данными.
Родительские действия (походы в музеи, чтение на ночь, запрет телевизора) почти не влияют на школьные успехи детей.
Важнее то, кто родители: их уровень образования, социально-экономический статус, возраст матери при первых родах, владение языком в семье и наличие книг дома.
Биологические факторы и генетика могут влиять на способности ребёнка, а усыновление иногда показывает негативную корреляцию при низком IQ биологических родителей.
Разрыв в образовательных результатах между детьми разных рас почти исчезает при контроле социально-экономических факторов, но возвращается в школах с низким качеством образования.
Имена сигнализируют социальный статус семьи, но не определяют судьбу ребёнка напрямую.
Социальные маркеры, такие как имя, отражают ожидания родителей и тенденции общества, но сами по себе не создают успех или неудачу.
Человеческая жизнь непредсказуема: стартовые условия не гарантируют успех или неудачу, примеры - судьбы Теда Качинского и Роланда Фрайера.
Главный навык - видеть скрытые причины, анализировать данные и сомневаться в очевидных объяснениях, а не полагаться на интуицию.
Малозаметные действия и решения могут иметь огромные последствия, а большие изменения иногда происходят из-за небольших, неприметных факторов.
Экономические и социальные закономерности часто противоречат здравому смыслу и интуиции.
Важно использовать факты и количественные данные, чтобы понимать причины и следствия, даже если они кажутся непопулярными или неудобными.
«Фрикономика» учит исследовательскому подходу к жизни: задавать вопросы, искать скрытые связи и думать критически, а не искать готовые моральные или практические рецепты.
Общепринятое мнение часто ошибочно, оно формируется для удобства и пользы, а не для истины.
События могут иметь неожиданные и скрытые причины, которые на первый взгляд кажутся не связанными с результатом.
Эксперты и власти часто используют информационное преимущество в своих интересах, скрывая или искажая данные.
Экономика - наука измерений: правильный вопрос + верные данные = неожиданные, но логичные выводы.
Легализация абортов в 1970-х стала одной из главных причин резкого падения уровня преступности в 1990-х, так как не родились дети из групп наибольшего риска.
Другие факторы снижения преступности включают увеличение тюремного населения, рост числа полицейских и спад крэкового наркотического бума, но их влияние меньше, чем у легализации абортов.
Традиционные объяснения падения преступности (экономический рост, ужесточение законов об оружии, смертная казнь, демографические изменения) не подтверждаются данными.
Родительские действия (походы в музеи, чтение на ночь, запрет телевизора) почти не влияют на школьные успехи детей.
Важнее то, кто родители: их уровень образования, социально-экономический статус, возраст матери при первых родах, владение языком в семье и наличие книг дома.
Биологические факторы и генетика могут влиять на способности ребёнка, а усыновление иногда показывает негативную корреляцию при низком IQ биологических родителей.
Разрыв в образовательных результатах между детьми разных рас почти исчезает при контроле социально-экономических факторов, но возвращается в школах с низким качеством образования.
Имена сигнализируют социальный статус семьи, но не определяют судьбу ребёнка напрямую.
Социальные маркеры, такие как имя, отражают ожидания родителей и тенденции общества, но сами по себе не создают успех или неудачу.
Человеческая жизнь непредсказуема: стартовые условия не гарантируют успех или неудачу, примеры - судьбы Теда Качинского и Роланда Фрайера.
Главный навык - видеть скрытые причины, анализировать данные и сомневаться в очевидных объяснениях, а не полагаться на интуицию.
Малозаметные действия и решения могут иметь огромные последствия, а большие изменения иногда происходят из-за небольших, неприметных факторов.
Экономические и социальные закономерности часто противоречат здравому смыслу и интуиции.
Важно использовать факты и количественные данные, чтобы понимать причины и следствия, даже если они кажутся непопулярными или неудобными.
«Фрикономика» учит исследовательскому подходу к жизни: задавать вопросы, искать скрытые связи и думать критически, а не искать готовые моральные или практические рецепты.
Техники и инструменты из книги:
- Анализ стимулов (инцентивов) – рассматривайте, что мотивирует людей, деньги, социальное признание, наказание или другие факторы, а не только мораль или доброе намерение.
- Использование данных вместо интуиции – проверяйте предположения количественно, собирайте факты и статистику, прежде чем делать вывод.
- Сравнительный анализ – сравнивайте группы, регионы или периоды времени, чтобы выявить, что реально влияет на поведение или результаты.
- Контроль внешних факторов – учитывайте социально-экономические условия, демографию, образование родителей, чтобы отделить реальные причины от совпадений.
- Обратный анализ причин и следствий – ищите скрытые или непрямые причины событий, даже если на первый взгляд они кажутся несвязанными.
- Использование естественных экспериментов – изучайте реальные события как эксперименты, например, легализацию абортов, изменения законов, полицейскую практику.
- Критика общепринятой мудрости – проверяйте «общеизвестные» объяснения и мифы с помощью данных, а не верьте традиционным мнениям.
- Сравнение социальных маркеров – изучайте, как внешние признаки (имена, книги в доме, владение языком) отражают социальный статус и потенциальные результаты.
- Регрессионный анализ и статистические корреляции – используйте математику и статистику, чтобы выявить связь между переменными, отделяя реальные эффекты от случайных совпадений.
- Фокус на долгосрочные последствия – учитывайте, как небольшие изменения сегодня могут иметь значительные эффекты в будущем.
- Разделение влияния родителей и среды – различайте биологические факторы, воспитание и социальную среду при анализе успехов детей.
- Идентификация непрямых сигналов – рассматривайте имена, стиль жизни и другие маркеры как индикаторы социальных ожиданий и возможностей.
- Проверка «инноваций» и новых практик на реальных данных – например, анализ «инновационного патрулирования» или жесткости законов показывает, что очевидные меры не всегда работают.
- Математическое прогнозирование неожиданных явлений – использование экономических моделей и данных для объяснения странных или контринтуитивных результатов.
- Экономический взгляд на социальные явления – применяйте методы экономики к любым человеческим действиям, даже к преступности, образованию или выбору имени.
План действий: как внедрить идеи из книги «Фрикономика» в жизнь
Шаг 1. Определи стимулы
Выясняй, что движет поведением людей в рассматриваемой ситуации. Это могут быть деньги, социальное признание, наказание или скрытые выгоды. Не делай выводы, ориентируясь на моральные ожидания – ищи реальные мотивы.
Шаг 2. Ставь правильные вопросы
Формулируй вопросы так, чтобы они выявляли причину, а не просто подтверждали мнение. Например, спрашивай «Почему люди делают это?» вместо «Должны ли они это делать?».
Шаг 3. Собирай данные
Ищи факты, статистику, реальные наблюдения. Даже странные или неожиданные явления можно анализировать, если есть надежные данные.
Шаг 4. Контролируй внешние факторы
Учитывай социально-экономическое положение, демографию, образование, семейные условия и другие переменные, которые могут искажать результаты.
Шаг 5. Сравнивай группы и периоды
Сравнение разных регионов, периодов времени или социальных групп помогает отделить реальный эффект от случайности. Например, сравнивай результаты до и после изменений в законах или практике.
Шаг 6. Ищи непрямые и скрытые причины
Не ограничивайся очевидными объяснениями. Например, снижение преступности в 1990-х связано не с ростом экономики, а с легализацией абортов десятилетием раньше.
Шаг 7. Проверяй общепринятую мудрость
Сомневайся в «очевидных» объяснениях и популярных мифах. Используй данные, чтобы отделить правду от удобной истории.
Шаг 8. Используй естественные эксперименты
Реальные события, изменения законов или социальных условий могут стать экспериментами для анализа причинно-следственных связей.
Шаг 9. Анализируй корреляции и закономерности
Используй статистику и регрессионный анализ, чтобы увидеть связь между переменными. Важно отделять корреляцию от причинно-следственной связи.
Шаг 10. Рассматривай долгосрочные последствия
Оценивай, как маленькие изменения сегодня могут повлиять на будущее. Например, условия рождения и воспитания могут через годы радикально изменить социальные и экономические результаты.
Шаг 11. Смотри на социальные маркеры
Имена, владение языком, количество книг в доме, образовательный уровень родителей – все это помогает понять скрытые сигналы и ожидания общества.
Шаг 12. Делай выводы и применяй на практике
Опирайся на данные, а не на интуицию. Формулируй выводы, которые можно проверить и применить к реальным решениям, даже если они противоречат здравому смыслу.
Выясняй, что движет поведением людей в рассматриваемой ситуации. Это могут быть деньги, социальное признание, наказание или скрытые выгоды. Не делай выводы, ориентируясь на моральные ожидания – ищи реальные мотивы.
Шаг 2. Ставь правильные вопросы
Формулируй вопросы так, чтобы они выявляли причину, а не просто подтверждали мнение. Например, спрашивай «Почему люди делают это?» вместо «Должны ли они это делать?».
Шаг 3. Собирай данные
Ищи факты, статистику, реальные наблюдения. Даже странные или неожиданные явления можно анализировать, если есть надежные данные.
Шаг 4. Контролируй внешние факторы
Учитывай социально-экономическое положение, демографию, образование, семейные условия и другие переменные, которые могут искажать результаты.
Шаг 5. Сравнивай группы и периоды
Сравнение разных регионов, периодов времени или социальных групп помогает отделить реальный эффект от случайности. Например, сравнивай результаты до и после изменений в законах или практике.
Шаг 6. Ищи непрямые и скрытые причины
Не ограничивайся очевидными объяснениями. Например, снижение преступности в 1990-х связано не с ростом экономики, а с легализацией абортов десятилетием раньше.
Шаг 7. Проверяй общепринятую мудрость
Сомневайся в «очевидных» объяснениях и популярных мифах. Используй данные, чтобы отделить правду от удобной истории.
Шаг 8. Используй естественные эксперименты
Реальные события, изменения законов или социальных условий могут стать экспериментами для анализа причинно-следственных связей.
Шаг 9. Анализируй корреляции и закономерности
Используй статистику и регрессионный анализ, чтобы увидеть связь между переменными. Важно отделять корреляцию от причинно-следственной связи.
Шаг 10. Рассматривай долгосрочные последствия
Оценивай, как маленькие изменения сегодня могут повлиять на будущее. Например, условия рождения и воспитания могут через годы радикально изменить социальные и экономические результаты.
Шаг 11. Смотри на социальные маркеры
Имена, владение языком, количество книг в доме, образовательный уровень родителей – все это помогает понять скрытые сигналы и ожидания общества.
Шаг 12. Делай выводы и применяй на практике
Опирайся на данные, а не на интуицию. Формулируй выводы, которые можно проверить и применить к реальным решениям, даже если они противоречат здравому смыслу.
Главные цитаты из книги
- Люди ведут себя рационально, если учитывать их стимулы.
- Общепринятое мнение часто оказывается ложным, но оно удобно.
- Маленькие изменения в правилах могут привести к большим последствиям.
- Скрытые причины могут объяснить неожиданные явления.
- Деньги и наказания влияют на поведение сильнее, чем моральные убеждения.
- Сравнение разных групп и периодов раскрывает истинные закономерности.
- Статистика часто говорит больше, чем интуиция.
- Корреляция не всегда означает причинно-следственную связь.
- Данные помогают увидеть то, что скрыто за внешними проявлениями.
- Родители формируют судьбу детей не действиями, а условиями и ресурсами.
- Имена и социальные маркеры сигнализируют о статусе, а не определяют будущее.
- Экономика – это наука измерений и анализа, а не догадок.
- Иногда неожиданные последствия происходят через десятилетия.
- Не ищи простых ответов там, где скрытая логика сложна.
- Ставь вопросы так, чтобы данные сами раскрыли правду, а не подтверждали ожидания.
Если хотите получать ежедневный разбор классических мировых бестселлеров, а также новейших, набирающих популярность книг по саморазвитию, то вступайте в наш клуб.
